Записано за спогадами мого дідуся Лотоцького Григорія Андрійовича
Площа “Ринок”

На даній ілюстрації зображена площа “Ринок” станом на кінець 19 століття. Згідно історичних документів, станом на 1889 рік площа була місцем проведення велелюднх ярмарків. Ярмарки були: 1 січня, 25 березня, 20 липня, 14 вересня і 18 жовтня. Торгували на них худобою, селянським взуттям, одягом, посудом і “красним товаром”.
Описуючи дану ілюстрацію (зліва на право), слід відзначити наступні споруди:
1) двоповерховий будинок є приміщенням жіночого монастиря при Свято-Троїцькому костелі.
2) За монастирем знаходиться величне споруда самого костелу, обнесеного на той час кам’яним муром.
3) Одразу ж поряд із костелом розташована двоярусна дзвіниця;
4) Особливу увагу на площі привертає пам’ятник у формі колони, на горі котрої знаходиться, ніби людська постать. Згідно інформації отриманої зі спогадів мого дідуся Лотоцького Григорія Андрійовича, 1930 року народження, корінного жителя Берестечка. Ця споруда є дійсно пам’ятником деякому чоловікові. Зі слів дідуся, даний монумент був зведений на честь перемоги поляків у битві під Берестечком, що відбулася у 1651 році. Яку ж роль відіграв у цій битві той чоловік? Чим він заслужив таку шану? Згідно народних переказів, як стверджував дідусь, цей чоловік постійно виганяв пасти свою худобу до річки Пляшівки на луги, що знаходилися недалечко від розташування козацьких і татарських військ. Запам’ятавши їх точне розташування, кількість артилерії та кінноти чоловік пішов у польський табір і усе докладно розповів. Згідно переказів, ця інформація теж зіграла немалу роль у перемозі польскої сторони.
В знак подяки чоловіку було й споруджено пам’ятник. Дідусь пригадує, що у народі монумент називали “Свєнтий Валєнтий”.
Монумент було знищено у 1939 році із приходом радянської влади.
5) Позаду пам’ятника видно палац із 4 колонами при вході. Із приходом радянської влади у 1939 році, приміщення маєтку використовувалось у ролі аптеки. Однак, зі слів дідуся, у післявоєнні роки аптека була підірвана і спалена бендерівцями (принаймні саме так тоді говорили люди).
Пожежа у маєтку пана Рінчинського
Вторгнення СРСР на територію Західної України, яка на той час належала до Польщі, розпочалося 17 вересня 1939 та тривало до 6 жовтня 1939.
Історична довіка
Одержавши повідомлення про перехід Червоною Армією польського кордону, німецьке командування віддало наказ військам зупинитися на лінії Сколе — Львів — Володимир-Волинський — Брест — Білосток.
В ніч з 17 на 18 вересня радянські війська взяли Тернопіль, впродовж 18-19 вересня — Озерну, Сокаль, Броди, Бібрку, Рогатин, і 19 вересня підійшли до Львова. Тут Червона армія зустрілась з частинами вермахту, які вже упродовж майже тижня блокували в місті 15-тисячний польський гарнізон на чолі з генералом В. Лянгером. Внаслідок переговорів між радянським і німецьким командуванням німці відійшли з цього району [12]. Червона армія здійснила декілька невдалих спроб здобути Львів. 22 вересня 1939 року після переговорів з радянським командуванням львівський гарнізон погодився капітулювати на почесних умовах, які, втім, не було виконано.
Парад радянських військовиків у Львові
Після низки дипломатичних перемовин і відповідного остаточного узгодження демаркаційної лінії, німецькі війська почали передавати СРСР раніше захоплені ними українські та білоруські міста. Так 22 вересня Червоній армії було передано місто Стрий, 24 вересня — Дрогобич. 22 вересня під час передачі радянській адміністрації білоруського міста Брест було проведено спільний військовий парад частин вермахту і Червоної армії.
За спогадами людей пан Рінчинський був доброю та розумною людиною. Його поважали православні і католики, простий люд і вельможі. Рінчинський своїм підлеглим, які довгий час працювали при дворі, наділив по десятині на кожного. Для цього відрізав частину СВОГО грунту, який межував із селянськими наділами. Звичайно, таке рішення пана викликало і радість, і подив. Ця земельна ділянка площею у п’ять гектарів увійшла в історію міста як
Придаток. Перед вступом радянських військ на територію містечка пан Рінчинський зібрав свою сім’ю і залишив Берестечко.
День втечі пана зі свого родинного маєтку особливо яскраво врізався у пам’ять мого дідуся Лотоцького Григорія Анрійовича. Мій дідусь тоді був 9 літнім хлопчиськом. Це був звичайний телий осінній день. Хлопці гралися на березі річки Стир. Як раптом хтось із них побачив величезний клубок диму, що здійнявся у небі десь далеко за річкою. Хтось гукнув – ану побігли глянемо, що там діється! Хлопчаки як хлопчаки: весело залопотіли босі ніжки і вони наввипередки кинулись через дерев’яний міст(що на той час знаходився трохи лівіше центрального міського пляжу) до стовпа диму.
Не бажаючи лишати нажите чесною працею, власними потом та кров’ю добро на поталу червоній бідоті. Пан просто підпалив свій маєток та усі його господарські споруди. “Такої пожежі, – говорив мій дідусь, – “я більш небачив ні до війни ні під час війни!”
Від усього маєтку залишилися лише старезний парк та цегляна контора, яка слугує тепер бібліотекою Берестечківському ПТУ №27.
Ростріл євреїв
23 червня німецькі війська зайняли м. Берестечко. 8 серпня 1941 року у містечку було розстріляно 300 євреїв. Приблизно тоді ж було створено гетто. Місце розташуванням гетто став сучасний район Берестечківської музичної школи (колишній єврейський храм – Синагога). Гетто тягнулось від школи, понад річкою і закінчувалось аж біля сучасного мосту від Берестечка до Стариків.
До жовтня 1941 року в гетто було звезено із навколишніх сіл до 3 тисяч євреїв. Варто зазначити, що згідно виявленої документації у Берестечку станом на 1937 рік проживало 7500(!!!) євреїв, що становило 35%(!!!) від усього населення містечка.
“Їх везли хурами, – згадує моя бабуся Лотоцька Ганна Іванівна, – усіх разом: і чоловіків і жінок і дітей. Хтось плакав, хтось молився, хтось їхав мовчки. Вздовж вулиці стояло місцеве НЕЄВРЕЙСЬКЕ населення. Багато хто із людей сміявся, обзивав їх жидами, кидав по них яблуками та камінням. І раптом одна жидівка повернулась до людей і гірко та голосно сказала: чого ви радієте? нами розчинили, а вами замісять!…”
Перед відправкою у гетто багато єврейських родин залишали в жителів берестечка різноманітні золоті коштовності на збереження. Вони зашивали їх у зимову одежу і просили потримати її у себе поки вони повернуться. Не повернувся ніхто… Отак єврейське золото стало надбанням багатьох українських родин. Кожна із ним розпорядилась по своєму…
Отець Патрік Дебуа у своїй книзі “Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту” так описує ті страшні події:
Дуже часто в Західній Україні убивці клали дошку по ширині ями, на яку ставали жертви, котрих розстрілювали. Дошку не закріплювали, аби трупи палали по всій довжині ями, тоді не потрібно було укладати тіла після розстрілу. Якщо розстрілювали одну єврейську родину, то найчастіше її члени мали лягати в яму, яку вони самі напередодні викопали. В інших випадках євреї мали сходити до ями боковими земляними сходами і лягати долілиць – на інших жертв, яких щойно стратили. Цей спосіб винайшов Фрідріх Єккельн під час масових убивств у Кам’янці-Подільському (кінець серпня 1941 р.) для того, щоб не обтяжувати себе укладанням тіл і економити місце». Такий метод дістав назву “пакування сардин”. Якщо жертв убивали біля колодязя, то євреї ставали на його край.
Найчастіше євреїв убивали однією кулею, пострілом у спину, на противагу німецькій практиці під час військових обстрілів. На такий вибір, зроблений із самого початку розстрілів, чітко вказує сам Пауль Блобель. Зрештою, команди успішно винаходили свої власні методи вбивства під час численних мерзенних дискусій: куди краще стріляти […]
4 вересня 1942 за Берестечком, по дорозі до села Смолява (недалеко ві сучасного берестечківського сміттєзвалища) було розстріляно до 3 тисяч євреїв.
Пам’яткою про цю страшну подію служить невеличкий обеліск.
Єврейські поселення у Берестечку
За матеріалами сайту “Еврейское наследие Украины”
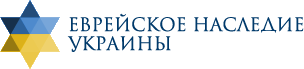
Берестечко, город (с 1940) в Гороховском районе Волынской области.
В XVI—XVIII вв. — в Луцком повете Волынского воеводства в составе Речи Посполитой. С 1795 —в составе Рос. империи. В XIX — начаче XX в. — местечко Дубенского уезда Волынской губ. В 1919—39 — в Волынском воеводстве в составе Польши, в 1939—1991 — в составе УССР.
| Роки | Кількість Євреїв | К-сть іншого
населення |
| 1577 | 50 | – |
| 1648 | 1050 | – |
| 1765 | 632 | – |
| 1778 | 586 | – |
| 1784 | 536 | – |
| 1787 | 569 | – |
| 1847 | 1927 | – |
| 1863 | 1394 | – |
| 1897 | 2251 (45,5% від загальної к-сті населення) | 4947 |
| 1921 | 1975 (35% від загальної к-сті населення) | 5643 |
| 1931 | 2210 (35% від загальної к-сті населення) | 6314 |
| 1937 | 2625 (35% від загальної к-сті населення) | 7500 |
Евреи жили в Беерстечке с середины XVI в. Во времена «хмельнитчины» в Берестечке погибло около 200 еврейских семей, уцелело лишь 12 еврейских домов.
В начале XVIII в. раввином был Шауль бен Яков, в 1750—60-х гг. — Элиэзер Липман, в начале XIX в. — Хаим-Мордхе Маргалиот (?—1818).
В конце XIX в. все население местечка, кроме 5 человек, вымерло от чумы. В середине XIXв. в Берестечке действовали 4 синагоги, в том числе 2 хасидские (уликская и трискская). В 1881—1937 раввином был Мойше-Лейб Кливанер, раввином уликских хасидов — Нахман Звагилер.
В 1901 в Берестечке имелись еврейское мужское училище И.Кагана, богадельня, еврейская больница. Действовали организация Бунда и несколько молодежных сионистских организаций, в том числе «Циона» (с 1906) и «Бнос Цион».
В 1917 в Берестечке был организован отряд самообороны, в этом же году открыт сионистский клуб, в 1918 — школа с преподаванием на иврите (с начала 1920-х гг. вошла в «Тарбут»). Один из первых преподавателей в школе — И.Ламдан. В середине 1930-х гг. 75% торговли Берестечка сосредоточено в руках евреев, которым принадлежало и большинство мастерских: 28 портных из 30 и 18 меховщиков из 19 были евреями. В 1930 открыт Еврейский народный банк. Несколько лет в 1920—30-х гг. заместителем мэра был Борух Форер. В Берестечке действовало 6 синагог, в т. ч. 3 хасидские. Раввином с 1937 был Арон Забарский (?—1941).
8 августа 1941 в Берестечке было расстреляно 300 евреев. Тогда же создан юденрат, в окт. 1941 — гетто, в которое позднее были доставлены и жители окрестных местечек. 4 сентября 1942 здесь было расстреляно около 3 тысяч евреев.
Архитектура
Синагога (ул. Набережная), вероятно, XVІІІ ст.
Синагога расположена на север от рыночной площади и на юг от реки Стир. Построена в стиле барокко, переплетающемся с элементами рококо. Во время Второй мировой войны здание было повреждено. Вероятно, именно тогда были утрачены своды и внутренние колоны, разрушен пулиш, который первоначально был пристроен с западной стороны к мужскому залу. После войны здание было приспособлено под жилье. В 1980-х гг. оно не использовалось. В последние годы была сделана попытка отремонтировать здание и приспособить его под музыкальную школу, но работы не были завершены.
Первоначально объем синагоги состоял лишь из прямоугольного в плане мужского зала. Здание не имеет традиционной ориентации: мизрах ориентирован на юго-восток. Стены построены из кирпича, оштукатурены современной штукатуркой очень низкого качества. Прежний вход замурован, а новый пробит в нише Арон га-Кодеша. Крыша новая, с деревянными конструкциями, четырехскатная, крытая шифером. Здание двухъярусное, на западной стене следы утраченных галерей с пулишем. Фасады увенчаны современными карнизами. Оконные прорезы – с прямоугольным завершением, вероятно перерублены.
Исаак Бабель. Конармия.
Берестечко
Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.
Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.
Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.
— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно…
И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.
Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.
Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогую хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.
Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.
Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.
Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.
В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.
Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:
«Berestetchko, 1820. Paul, mon bien aime, on dit que l’empereur Napoleon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont ete faciles, notre petit heros acheve sept semaines…».
Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:
— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома…
Афонька Бида
Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался
азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй,
вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы,
летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и
судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная
временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись
в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в
зеленом сюртуке, встретил нас у костела.
Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к
дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.
– Почтение, – произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в
рядах свое место.
Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:
– Откуда коня взял?
– Собственный, – ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением
языка заслюнил ее.
Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого
глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая
опухоль.
А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и
пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка
с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего
глаза.
После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка
графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него… Они задирали
жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.
– Фигуральный конь, – сказал Орлов, помощник эскадронного.
– Лошадь справная, – подтвердил длинноусый Биценко.
У святого Валента
Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме
ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка
перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился
с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы
это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили
древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира
приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом
молебен. Пузатые и благостные – они стояли, как колокола в росистой траве.
Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало
руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные
флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в
лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.
Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной
колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал
бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей
бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии,
ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и
увидел храм Берестечка – могущественный и белый. Он светился в нежарком
солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых
боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко
сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине
были колонны, тонкие, как свечи.
Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба
появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как
собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были
налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то
тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след
звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами,
села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом
захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря
стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали
войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с
нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой
дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые
ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские
черепа.
Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную
комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка.
Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи,
рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри,
щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили
Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки,
цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось,
поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные стройные ноги,
и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в
седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям.
И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.
Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных
столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у
правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых
патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса.
Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя
барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать апостолов в
кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы,
пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают
мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, на
двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как
редиска в мае.
В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на
смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с
картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как
борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное
изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти
Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной,
недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою
наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.
Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне
невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты
валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на
кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька,
дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем.
Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его
сонным голосом: “Брось, Афоня, идем снедать”. Но казак не бросал: их было
множество – Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были
оторваны друг от друга. Песня – ее густой напев – длилась мгновение и
переходила в другую… Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне
невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента
и муж слепой старухи.
Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с
опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные
мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни.
Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал
над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это
мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в
сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами,
бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше – босая, с разодранным и
кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в
оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул
руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась
кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову,
бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише
была всего только Иисус Христос – самое необыкновенное изображение бога из
всех виденных мною в жизни.
Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и
низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над
закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.
Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен
драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки,
накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.
Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над
нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили
соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал
нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и
обнял ноги спасителя.
Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении
религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а
виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного
трибунала.
Исаак Бабель. Конармейский дневник 1920 года
7.8.20. Берестечко
Теперь вечер, 8. Только что зажглись лампы в местечке. В соседней комнате панихида. Много евреев, заунывные родные напевы, покачиваются, сидят по скамьям, две свечи, неугасимая лампочка на подоконнике. Панихида по внучке хозяина, умершей от испуга после грабежей. Мать плачет, под молитву, рассказывает мне, мы стоим у стола, горе молотит меня вот уже два месяца. Мать показывает карточку, истертую от слез, и все говорят – красавица необычайная, какой-то командир бегал за яром, стук ночью, поднимали с кровати, рылись поляки, потом казаки, беспрерывная рвота, истекла. И главное у евреев – красавица, такой в местечке не было.
Памятный день. Утром – из Хотина в Берестечко. Еду с секретарем военкома Ивановым, длинный, прожорливый парень без стержня, оборванец – и вот, муж певицы Комаровой, мы концертировали, я ее выпишу. Русский менаде.
Труп убитого поляка, страшный труп, вздутый и голый, чудовищно.
Берестечко переходило несколько раз из рук в руки. Исторические поля под Берестечком, казачьи могилы. И вот главное, все повторяется – казаки против поляков, больше – хлоп против пана.
Местечко не забуду, дворы крытые, длинные, узкие, вонючие, всему этому 100-200 лет, население крепче, чем в других местах, главное – архитектура, белые водянисто-голубые домики, улички, синагоги, крестьянки. Жизнь едва-едва налаживается. Здесь было здорово жить – ценное еврейство, богатые хохлы, ярмарки по воскресеньям, особый класс русских мещан – кожевников, торговля с Австрией, контрабанда.
Евреи здесь менее фанатичны, более нарядны, ядрены, как будто даже веселее, старые старики, капоты, старушки, все дышит стариной, традицией, местечко насыщено кровавой историей еврейско-польского гетто. Ненависть к полякам единодушна. Они грабили, мучили, аптекарю раскаленным железом к телу, иголки под ногти, выщипывали волосы за то, что стреляли в польского офицера – идиотизм. Поляки сошли с ума, они губят себя.
Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские. Ксендз Тузинкевич – я нахожу его карточку, толстый и короткий, трудился здесь 45 лет, жил на одном месте, схоластик, подбор книг, много латыни, издания 1860 года, вот когда жил Тузинкевич, квартира старинная, огромная, темные картины, снимки со съездов прелатов в Житомире, портреты папы Пия X, хорошее лицо, изумительный портрет Сенкевича – вот он, экстракт нации. Над всем этим воняет душонка Сухина. Как это ново для меня – книги, душа католического патера, иезуита, я ловлю душу и сердце Тузинкевича, и я ее поймал. Лепин трогательно вдруг играет на пианино. Вообще – он иногда поет по-латышски. Вспомнить его босые ножки – умора. Это очень смешное существо.
Ужасное событие – разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм – 200 лет, что он видел (рукописи Тузинкевича), сколько графов и холопов, великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а может быть Мурильо, и главное – эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента. Служитель трепещет, как птица, корчится; мешает русскую речь с польской, мне нельзя прикоснуться, рыдает. Зверье, они пришли, чтобы грабить, это так ясно, разрушаются старые боги.
Вечер в местечке. Костел закрыт. Перед вечером иду в замок графов Рациборовских. 70-летний старик и его мать 90 лет. Их было всего двое, сумасшедшие, говорят в народе. Описать эту пару. Графский, старинный польский дом, наверное, больше 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, остатки рогов, маленькие комнаты для дворецких вверх, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 года, notre petit heros acheve 7 Semaines. Боже, кто писал, когда писали, растоптанные письма, взял реликвии, столетие, мать – графиня, рояль Стейнвей, парк, пруд.
Не могу отделаться – вспоминаю Гауптмана, Эльгу.
Митинг в парке замка, евреи Берестечка, тупой Винокуров, бегает детвора, выбирают Ревком, евреи наматывают бороды, еврейки слушают о российском рае, международном положении, о восстании в Индии.
Тревожная ночь, кто-то сказал быть наготове, наедине с чахлым мешуресом, неожиданное красноречие, о чем он говорил?
8.8.20. Берестечко
Вживаюсь в местечко. Здесь были ярмарки. Крестьяне продают груши. Им платят давно несуществующими деньгами. Здесь жизнь била ключом – евреи вывозили хлеб в Австрию, контрабанда товаров и людей, близость заграницы.
Необыкновенные сараи, подземелья.
Живу у содержательницы постоялого двора, рыжая тощая сволочь. Ильченко купил огурцов, читает “Журнал для всех” и рассуждает об экономической политике, во всем виноваты евреи, тупое, славянское существо, при разграблении Ростова набившее карман. Какие-то приемыши, недавно умершая. История с аптекарем, которому поляки запускали под ногти булавки, обезумевшие люди.
Жаркий день, жители слоняются, начинают оживать, будет торговля.
Синагога, Торы, 36 лет тому назад построил ремесленник из Кременца, ему платили 50 рублей в месяц, золотые павлины, скрещенные руки, старинные Торы, во всех шемесах нет никакого энтузиазма, изжеванные старики, мосты на Берестечко, как всколыхнули, поляки придавали всему этому давно утраченный колорит. Старичок, у которого остановился Корочаев, разжалованный начдив, со своим оруженосцем-евреем. Корочаев был предчека где-то в Астрахани, поковырять его, оттуда посыплется. Дружба с евреем. Пьем чай у старичка. Тишина, благодушие. Слоняюсь по местечку, внутри еврейских лачуг идет жалкая, мощная, неумирающая жизнь, барышни в белых чулках, капоты, как мало толстяков.
Ведем разведку на Львов. Апанасенко пишет послания Ставропольскому Исполкому, будем рубить головы в тылу, он восхищен. Бой у Радзихова, Апанасенко ведет себя молодцом – мгновенная распланировка войск, чуть не расстрелял отступившую 14-ую дивизию. Приближаемся к Радзихову. Газеты московские от 29/VII. Открытие II конгресса III Интернационала, наконец осуществленное единение народов, все ясно: два мира и объявлена война. Мы будем воевать бесконечно. Россия бросила вызов. Пойдем в Европу, покорять мир. Красная Армия сделалась мировым фактором.
Надо приглядеться к Апанасенко. Атаман.
Панихида тихого старика по внучке.
Вечер, спектакль в графском саду, любители из Берестечка, денщик – болван, барышни из Берестечка, затихает, здесь бы пожить, узнать.
2 thoughts on “Спогади та розповіді”
Comments are closed.

виняткове повідомленням сайту . Я збираюся відзначати berestechko.info і перевірити набагато частіше . Мені дуже подобається шаблон сайту бажаємо Вам удачі !
Дякуємо!